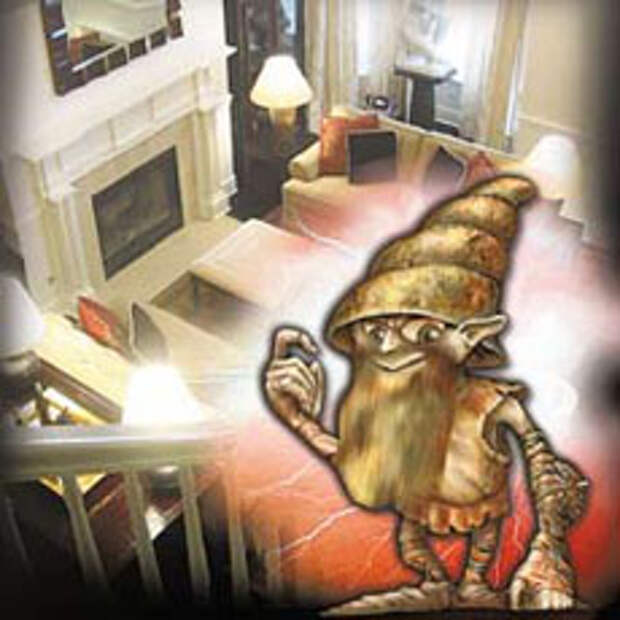 "Моя соседка клянется, что каждую ночь по ее квартире бродит домовой. Зла он никакого не делает, только изредка разобьет чашку-другую да съест несколько конфет,- пишет нам И. Зайонц из Риги. - В домовых я не верю, но что это может быть? Моя подруга Жанна Г. утверждает, что нас могут навещать существа из других миров.
"Моя соседка клянется, что каждую ночь по ее квартире бродит домовой. Зла он никакого не делает, только изредка разобьет чашку-другую да съест несколько конфет,- пишет нам И. Зайонц из Риги. - В домовых я не верю, но что это может быть? Моя подруга Жанна Г. утверждает, что нас могут навещать существа из других миров.
Да, и такие письма получает редакция. Люди описывают «чудеса», происшедшие с ними, с их соседями, вспоминают необыкновенные случаи, приключившиеся с их родителями.
Отмахнуться от подобных историй нельзя, а разобраться в каждой из них невозможно. Вот мы и попросили московского психиатра Михаила Ивановича Буянова проанализировать всего одну, но типичную историю.
Зазвонил телефон:
- Вы уже слышали, что в Москве поселились инопланетяне?
- Да, слухами земля полнится.
- Ну и как?
- Что - как? Существуют ли инопланетяне, никому точно не известно, одни в это верят, другие нет. Но это не моя компетенция, спросите радиоастрономов. А вот насчет конкретных «инопланетян» в Москве, о которых вы говорите... проверить не мешало бы.
Мы с собеседником условились при первом удобном случае разобраться с загадочной историей на месте, благо адрес был указан точно - Измайлово, дом, квартира.
Через несколько дней мне предстояло читать лекцию для психиатров, приехавших в Москву на курсы повышения квалификации. Темой был психический инфантилизм - нервно-психические расстройства, при которых на первых план выходит недоразвитость эмоционально-волевой сферы. Скажем, подросток лет тринадцати-четырнадцати, при нормально развитом интеллекте ведет себя, как ребенок восьми-девяти лет. Такие подростки любят много играть, учатся крайне неровно, беспрерывно фантазируют. Подбирая больных для демонстрации (это принято на лекциях подобного рода), я узнал, что в больницу поступил 14-летний подросток, начитавшийся научно-фантастических романов и вообразивший, будто сам общался с инопланетянами.
Фантазии у него менялись, словно майский ветер: он заявлял, будто собственными глазами видел инопланетян, живущих у него в квартире, что путешествовал с ними на их родную планету, и договаривался до того, что он сам инопланетянин... Психиатра такими фантазиями не удивишь, сколько наполеонов и чингисханов прошли перед нашими глазами. Теперь вот новый сюжет: двадцатый век теснит психиатрическую «классику», и на место чингисханов заступают космические пришельцы...
И вдруг меня осенило: а не тот ли это паренек, из-за которого состоялся наш телефонный разговор? Оказалось, тот самый.
На лекции он охотно рассказывал о себе, не смущаясь, что концы с концами у него частенько не сходятся. В его поведении было много детского, и видно было, что этот симпатичный парень либо разыграл своих близких, либо сгоряча сболтнул, а признаться смелости не хватило. И он решил «стоять до конца» - тайком передвигал мебель (инопланетяне!), постепенно втянул в свои мистификации родных, особенно маленькую сестренку, словом, увяз в своей затее так, что без посторонней помощи выбраться уже не смог бы.
Остановить его было нелегко.
- К нам приходят ученые, даже знаменитые академики,- вещал он,- они записывают мои выступления на магнитофон, размножают на машинках, обследуют меня всякой аппаратурой, делают мне иглоукалывание. Говорят, во всем мире человек пять таких же «феноменов»...
Оратору было все равно, верят ему или нет. Он уже десятки раз повторял рассказ родным, приятелям, незнакомым «академикам» - и вот теперь нам. И недоумевал еще: почему мать водит его к психиатрам и настаивает на госпитализации? Впрочем, он мог догадываться, что мать желает ему добра, ищет кого-нибудь, кто бы помог справиться с фантазией, в которой он буквально тонул. Может быть, внутренне он и сам был не против такой помощи...
Наконец, мальчик «признался» присутствующим в своем инопланетном происхождении, сообщил, что обладает сверхчеловеческой силой, может преодолевать любые препятствия, мысленно передвигать предметы. Ему предложили продемонстрировать свои способности - но «усилием воли» ни лист на календаре не перевернулся, ни телефон не зазвонил.
Через несколько дней я с двумя друзьями (инженерами по профессии) беседовал с родителями «инопланетянина» у него дома - обычная двухкомнатная квартира, семья тоже самая обычная.
- Мы и раньше догадывались, что сын нас разыгрывает,- говорил отец.- Но что мы могли поделать? К нам приезжали какие-то люди, говорили, что у нас живут инопланетяне, охали, ахали. Как тут не поверишь - мы люди простые, неученые, науку уважаем. Да и милиция была, тоже что-то заметили...
Чувствовалось, что, несмотря на все неудобства, родителям мальчика лестно принимать у себя ученых людей и даже немного жаль, что все «лопнуло». Что до милиции, то начальник отделения, человек спокойный и разумный, сообщил нам по телефону, что никто из его подчиненных ничего «сверхъестественного» в этой квартире не наблюдал.
Конец истории? Отнюдь. Двойственная позиция родителей мальчика по-своему понятна, хотя и не похвальна; хорошо хоть мать, все-таки, вовремя спохватилась... Но что сказать об «ученых людях» с титулами и без? С тех пор, как мальчик объявил, что он общается с инопланетянами, слух о «пришельцах в Измайлове» снежным комом покатился по городу, обрастая на ходу подробностями. Квартира, где бывают инопланетяне, превратилась в проходной двор. Кто здесь только не перебывал! И хотя чуда никто так и не увидел, рассказам юного фантазера продолжали верить на слово.
Человеческая психика поистине неисчерпаема, она таит в себе много неожиданного, о чем психология (и сестра ее психиатрия) пока могут только строить догадки. Мы еще далеко не все знаем и о собственной психике, и о психике соседа (хотя опыт и традиции помогают взаимной регуляции), законы же массовой, групповой психологии изучены и того меньше. Десятки вопросов возникают, как только задумываешься над фактами, подобными истории с инфантильным подростком-"инопланетянином». Вера в чудеса здравствует и поныне, притом что ни социальных, ни экономических, ни культурных корней, казалось бы, у нее быть не должно.
«Поди ты сладь с человеком! - восклицал иронически Гоголь в «Мертвых душах» - не верит в бога, а верит, что если почешется переносье, то непременно умрет; пропустит мимо создание поэта, ясное как день, все проникнутое согласием и высокой мудростию простоты, а бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напутает, наплетет, изломает, выворотит природу, и ему оно понравится, и он станет кричать: «Вот оно, вот настоящее знание тайн сердца!» Всю жизнь не ставит ни в грош докторов, а кончится тем, что обратится наконец к бабке, которая лечит зашептываниями и заплевками...»
Суеверие и легковерие - тоже в близком родстве. И может быть, стоит поискать не социальные или экономические их корни, а психологические? Ведь суеверия и «чудеса», как правило, вырастают на почве простодушия и наивности, малоинформированности (впрочем, и масса не приведенной в систему информации - тоже свидетельство полуобразованности). Весьма располагает к фантазированию, к любым контактам (от домовых до «пришельцев") и просто одиночество, и «жажда чудесного», и мода на сенсации. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов склонность известной части людей к галлюцинациям и даже к индуцированному, то есть «наведенному», помешательству...
Один пример из художественной литературы. Герой рассказа Юрия Казакова «Кабиасы», паренек по фамилии Жуков, идет как-то вечером в соседнее село и по пути встречает сторожа. Тот между делом сообщает, что в окрестностях водятся кабиасы - вроде чертиков или гномов. И шалят, конечно, страху нагоняют на прохожих.
Жуков посмеялся над полуграмотным стариком, но, проходя лесом, вспомнил его рассказ и тотчас почувствовал, что кабиасы где-то рядом, услышал их шаги, хохот, перестукивания. «Затаив дух, он медленно оборотился и взглянул на сарай. Крыша сарая висела в воздухе, даже звезды были видны в промежутке. Но только он взглянул на нее, как она села на сруб, а за сараем что-то с топотом побежало в поле с задушенным однообразным криком «О!.. О!.. О!..» - все дальше и глуше. Волосы у Жукова поднялись, он вскочил и прыгнул в сторону. «Ну! - подумал он. - Пропал!..»
Кабиасы, черти, гномы, домовые, тролли испокон веку добросовестно служили создателям сказок и поэм, «участвовали» в детских играх и розыгрышах взрослых, но, между прочим, и многими воспринимались всерьез, питали различные суеверия и самые нелепые слухи. Одно дело, когда гном - поэтический или музыкальный образ. Как всякий образ, он условен, несет определенную смысловую и художественную нагрузку. Другое дело, когда гном (или черт, или домовой) воспринимается как существо реальное!
Оставим в стороне чистую патологию, когда люди допиваются до чертиков и в состоянии белой горячки стряхивают с себя мелкую нечисть или больным нарколепсией эта нечисть иногда мнится перед засыпанием. Речь сейчас - о практически здоровых людях. А среди них, говорит профессиональный опыт психиатра, чаще всего «видят» кабиасов и их сородичей одинокие женщины и подростки. И те и другие отличаются чрезмерной доверчивостью и легко подвержены внушению, их мышление однобоко, критичность дремлет, кругозор ограничен.
Чем младше ребенок, тем меньше разграничивает он реальность и выдумку, почти не отличая себя от персонажа, в которого играет. Но порой вживание в образ приобретает болезненные черты: по нескольку дней и даже недель мальчик ведет себя, допустим, как кошка или собака. Родители сначала смеются, потом наказывают ребенка, затем бегут к врачу. И, если врач опытный, он быстро возвращает ребенка из мира болезненных фантазий в здоровую реальность, где, кстати, фантазировать тоже никем не возбраняется, только в ином ключе.
А если это не ребенок, а подросток? Взрослые, слушая его, не знают, что и думать? Он не лает, конечно, и не бегает на четвереньках, просто рассказывает о кабиасах или инопланетянах. Одни в ответ пожимают плечами, другие верят (особенно когда рассказ юного фантазера талантлив).
Вернемся к литературному примеру. То, что приключилось с казаковским Жуковым,- это хорошо известная (и в норме и в патологии) так называемая визуализация представлений, при которой оживают, становятся почти реальными образы фольклора и литературы. В замечательной книге Астрид Линдгрен маленькие дети видят Карлсона, который живет на крыше,- это тоже, в сущности, визуализация представлений. Бывает она у кого угодно, но чаще всего, повторяем, у неистощимых фантазеров, у тех, кто ищет чудес и напряженно ждет их. Феномен визуализации не обязательно связан с патологией. Дети, которые играют с Карлсоном,- вполне нормальны, как нормален был и Фарадей, который признавался, что «видит» магнитные силовые линии.
Свежие комментарии